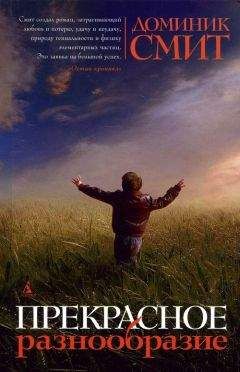Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]
— Твоя работа, спрашиваю?
— Так я же говорю: разве я посмею ослушаться тебя?
Старик, не мигая, глядит на Повилёкаса и долго не может понять, насмехается над ним сын или правду говорит.
— Подойди ближе.
Повилёкас подходит. Стоит, виновато потупив глаза. Помолчав, старик начинает оправдываться:
— Младший ты у меня, последыш… И чего тебе не хватает в родительском доме?
— По горло сыт я всем, папаша.
— Кузню тебе отдал, ничего с собой не возьму… Теперь уж скоро. Дни мои сочтены…
— Сыт я, папаша. Ни в чем не знаю нужды.
— Человека надо понять, — разжалобливается старик. — Если иной раз и строгонек был, не ради себя это. Сами потом поклонитесь мне у могилы за то, что дом не разорял, копеечку сберег…
— Сыт я.
— Чем сыт? — вдруг вскинулся старик.
— Сыт — и всё.
— Так и уходи вон! — взбеленился Дирда. — Чтоб тебя… чтоб ты околел, чтоб моим сыном не был! Чтоб… Чтоб… — Он стал задыхаться.
И тут к старику подбежала Салямуте.
— Папашенька, ну чего ты? Папашенька, успокойся, не надрывайся… — Начала оглаживать старика, стерла пену с его губ. — Повилёкас ничего, он, папашенька, не насмехается… тебе показалось…
И уговаривала и журила, а сама злобно косилась на Повилёкаса. Тот шмыгнул во двор, столкнувшись нос к носу с матерью. Старуха дергала пальцами нижнюю губу, укоризненно глядя на сына:
— Опять из себя вывел отца. Разве годится так? Никого тебе не жалко, сынок, ничего у тебя нет святого, будто басурман какой! Ни меня тебе не жалко, ни отца. А отец на глазах тает, скоро придется идти на костельный двор с позвонным.
— Понесешь, так назад принесешь, матушка. Скорее костельный двор провалится, чем отец ноги протянет, — отрезал Повилёкас.
И опять в деревне начались его потехи. Опять заливались, лаяли собаки, ругались люди, хлопали ворота и двери. Многие богачи — многоземельные — собирались просить в полиции помощи против шалого Повилёкаса.
Потеплело. Подсохла грязь на улице. Зазеленели, зашелестели все сады, рощицы, березнячки. Ярко-зеленой ряской затягивались пруды, окунула в воду свои ветви ива. На усыпанных цветом липах домовито жужжали пчелы. Будто и та же деревня, а уж не та, совсем новая, совсем иная, до краев полная птичьим щебетом и голосами людей, их песнями, руганью и смехом. У каждой избы под окошками гибель пестрейших цветов, пышной зелени, у каждых ворот красуются клены и каштаны, возле заборов хмель высоко вьется по тычинам. Там, где лежал завалившийся частокол, там, где ветер и дождь продырявили крышу, там, где падали вереи или оседал трухлявый навес, — всюду теперь напирало косматое божье дерево, облаками свивались плети душистого горошка, тянулись вверх турецкие бобы в красном цвету, белел львиный зев и шелестела гвоздика. Словно в невиданном лесу, словно в рассказанной Алаушасом сказке, где по мановению волшебника все грязное, нехорошее, недоброе скрывается с глаз, а остается только солнце, теплое благоухание цветов, смех, песня…
Лето, лето!
И прекраснее всего оно в деревне ранним воскресным утром. Солнце уже взошло, не спеша поднимается ввысь; добралось до верхушек березняка, лучи его прорываются в чащу садов, пронизывают самые глухие малинники, освещают самые тенистые уголки и начинают вытягивать накопившуюся за ночь влагу.
Тихо тогда в деревне. Важно стоят осыпанные росой яблони, повернув к восходящему солнцу тугие, по-юному стыдливые плоды. Медленно шевелят вишни ветками, усыпанными розовеющими ягодами. Отряхивается со сна груша… А солнце поднимается выше и выше, ясное и веселое, как молодица, уже коснулось корявых лип, потрогало цветки каштанов, светящиеся в зелени, как выбеленные часовенки.
Тихо в деревне. Усталые, притомившиеся за трудовую неделю люди спят сладким, как парное молоко, сном. Лишь посвистывает у своей скворечницы скворец, лишь чирикают воробьи, хотя и весело, но тихонько, чтобы не разбудить до поры до времени уставшего пахаря…
Тихо в деревне. Лишь выбежал за ворота мальчик — умытый, с мокрыми еще висками, обряженный в новую холщовую рубаху. Держит в руке краюшку на славу выпеченного хлеба, но не ест, а стоит на месте, будто дивится пробуждающемуся саду, будто ждет друга в белой рубашке, который тоже выбежал умытый и стоит у своих ворот, следит, повернув голову, за поднимающимся солнцем…
Тихо в деревне. Лишь под одним-другим окном забелел платочек — это выскочила в палисадник девушка нарвать пучок руты, расцветив ее розанами, приправив пахучей мятой. А тут и дымком потянуло из трубы у ранней хозяйки, захлопали двери, под окном купается в пыли курица…
Сейчас все встанут. Заскрипят колодезные оцепы, заухают от холодной воды люди, всей семьей усядутся за стол завтракать… Начнется долгое и светлое воскресенье, будет много хорошего во всех домах.
Только ничего хорошего не будет в нашем доме.
Кто там знает, что стряслось, только моему хозяину, старику Дирде, становится все хуже и хуже. Все меньше он ест и все больше опухает, руки у него набрякли, глаза почти совсем заплыли водяночными отеками, щеки то воспаляются до кирпичной красноты, то опять сереют, как зола, и каждый шов наволочки, каждый узор тканья так и отпечатывается на них, как собачий след на мокрой земле. А уж несет от него, с какой стороны ни подойдешь, — прямо в носу ломит! Не раз Казимерас подходил к кровати, заговаривал:
— Доктора не привезти, папаша?
— А есть чем платить? — хрипел старик. — Может, доктор задаром поедет?
— Что же деньги, папаша… Здоровье дороже.
— Когда дороже, то вези. Только на свои, а у меня нет, чтобы докторам швырять.
— Коли нет, — говорит, помолчав, Казимерас, — так, может, телушку какую свести на базар? Или корову? Восемь дойных у нас, трех годовалых еще припускать осенью будем. Не пропадем, а здоровье дороже…
Старик лишь усмехается. Свести корову? За какой надобностью? Доктору! Лучше уж на улицу в грязь бросить эти деньги, лучше под забором закопать… От дедов-прадедов не видели в этом доме докторов и теперь не увидят.
Подошла и старуха к кровати. Долго собиралась заговорить, мялась, дергала нижнюю губу. А старик смотрел, прищурившись, пряча ухмылку в усах.
— Пеликсюк, — наконец расхрабрилась старуха, — если уж отмахиваешься от доктора, так, может, ксендза позвать?
— Хе-хе-хе, — словно где-то под землей захихикал старик. — Может, заодно и гроб из клети притащишь, а? Уж разом уложить меня и заколотить.
— Сам не знаешь, Пеликсюк, что говоришь, — крестилась старуха. — Ксендз не только с причастием, ксендз и с добрым словом приходит. Неспроста больные после него веселеют… Может, и тебе посоветует что, укажет, порошок какой-нибудь назовет… Ведь ксендз человек ученый, он не только обедни служит, он и в болезнях знает толк…
— Вижу, вижу — смерти моей ждешь не дождешься, — сердито задвигал Дирда трясущимися руками. — Но не дождешься, не радуйся… Еще как хвачу поленом по темени, сама протянешь ноги.
На том разговоры и кончались. Старик гнал всех прочь, подпускал к себе только Салямуте, но и на нее смотрел искоса, все подозревая в чем-то недобром, усердно обнюхивал каждый кусок, каждую каплю воды, которые она подавала: а может, крысиного яда подсыпала?
Ему становилось все хуже.
А тут подошла навозница, за ней сенокос. Работы гнали домочадцев в поле, поторапливали. Но одному надо было оставаться дома, ухаживать за стариком, терять время в страду, когда каждая минута дороже золота. Старик выходил из себя, фырчал в усы.
— Сено сгноите, безголовые!
— Тебе же худо, папашенька, — ластилась к нему Салямуте.
— Не мозоль мне глаза — полегчает, — хрипел старик. — Знаю я вас. Только и норовите сложа руки посидеть…
Но домашние настаивали на своем, и он уступил:
— Оставьте мне пастушонка и идите ко всем чертям. Все равно без дела слоняется…
Все обрадовались решению старика. Одна Салямуте было воспротивилась.
— Этого еще не хватало, теперь еще этого не хватало, — сетовала она, то заламывая руки, то разводя ими. — Боже ты мой, чтобы у нашего папашеньки, после того как он промучился, промаялся всю свою жизнь, сохрани боже, не было теперь своего человека капельку водицы, крошечку хлеба подать? Когда вы так хотите — бросайте отца, а мне ничего не нужно, я с папашенькой останусь.
И она села к старику в изножье кровати, видимо, решившись остаться тут на целый день. Старик собрался с силами, согнул ногу под одеялом и лягнул Салямуте. Но одеяло было толстое, тяжелое, а старик уже обессилел, он только задохнулся, а ничего не добился. И сразу побагровел от гнева.
— Уберите от меня эту ведьму, — застонал он, тяжело дыша. — Уберите, говорю, не то…
И получилось так, что в те дни, когда была не моя очередь пасти скотину, я оставался один во всем доме ухаживать за стариком. Уйдут, бывало, все, разбегутся, а мы остаемся. Старик лежит навзничь с закрытыми глазами. Дышать ему трудно, будто кто навалился на него и душит. Мучается старик.